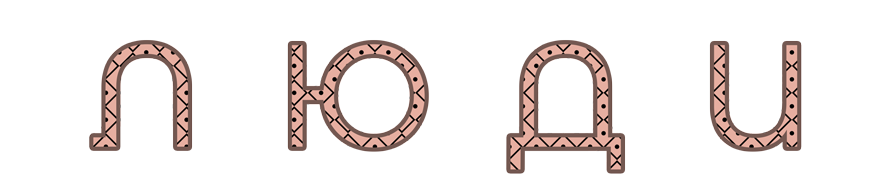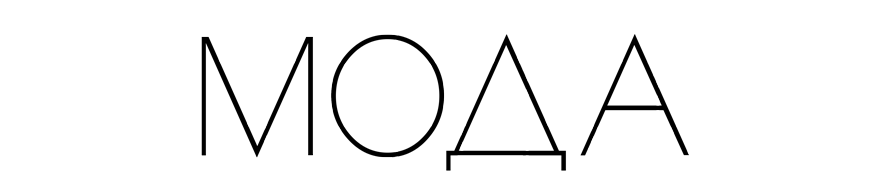«Я вовсе не отрицаю, что это говорили уже довольно часто прежде; ибо мое желание состоит не в том, чтобы обнаруживать нечто новое, напротив, моя радость и любимое занятие заключаются в том, чтобы размышлять над чем-то, что кажется совсем простым», – Сьерен Кьеркегор
Всю жизнь Даррен Аронофски выпадал из современного мира, отказываясь как автор мельтешить в возне военных игрищ повесток. Вечное — это настоящее, настоящее — это вечное — можно прочесть, скажем, у философа Сьерена Кьеркегора. Преходящее к вечному не имеет и условного отношения. Аронофски, кажется, в этом ни разу не усомнился, и поэтому существует, можно сказать, в определённом люфте между постмодернистским (неизбежность) и модернистским (запал) дискурсами, тяготея ко второму, но контекстуально и по поколенческой принадлежности не имея возможности избежать ассоциаций с первым.
Хайдеггер хорошо охарактеризовал понятие философствования: вопрошание вовнутрь целого. Сравнение крайне грубое, но в американском авторском кино масштабов, переходящих на Оскар с Сандэнса, Аронофски по сфере интересов уникум, сродни немецкому королю метафизики в западной философии политизированных 1930-ых. Так или иначе он вопрошает вовнутрь целого, не боясь, что его киноязык сочтут архаичным, метафоры громогласными, а само это вопрошание вовнутрь по характеру подростковым или сенильным. Вечное — значит, простое. Простое — вечное.
Аронофски, что ни говори, — режиссер редкого самомнения, даже парадоксального для эпохи. Он уже снял кино о себе в роли ветхозаветного спасителя на ковчеге (собственно «Ной»), в роли Адама, изгнанного из Рая за то, что тот взял на себя чересчур много ответственности и заигрался (критичная по отношению к себе «мама!», в которой ощущается раскаяние за амбиции). В «Ките» режиссер прочитывает себя буквально трагическим романтиком последних времен, буквально предваряющих апокалипсис. И в этом плане «Кит» — отповедь современному миру — и в частности современной Америке с ее мещанством и ханжеством, возведенными до полноценной идеологии, культом антидепрессантов и личных границ и полным отсутствием в тотальном большинстве романтизма.
Главного героя, Чарли, играет Брендан Фрейзер в пластическом гриме весом 136 килограммов. Он живет в затворничестве, пережил самоубийство любимого человека и свыкся с вынужденной разлукой с дочерью, ведет онлайн-курсы письма, и никогда не выходит из дома. А ещё на протяжение всего фильма Чарли отчаянно объедается, тяжелой походкой шагая к смерти. Он учит студентов тому, что, если вкратце, поэзия — это искренность, а форма произведения вторична откровенности оного. А еще он очень-очень хорошо умеет любить, что может привести как к спасению Другого за счет себя, так и к его, Другого, гибели.

Даррен Аронофски находит себя именно в Чарли, прочно связуя свою фигуру с представлением о Реальном его героя. И чем чаще Чарли вопрошает, как он противен, а его внешнее уродство акцентируется приемами боди-хоррора, тем наглядней оказывается диссонанс «уродства» героя с его бьющим сквозь складки жира внутренним светом. Чем патетичней Чарли призывает студентов к искренности отказа от страха своей субъектности, тем короче становится дистанция между персонажем и режиссером, а вместе с тем — между персонажем и зрителем. Как у Кокто в «Красавице и чудовище».
Примечательны здесь и линии других, молодых героев. Например, дочки Чарли Элли (Сиди Синк). По сюжету герой по вселенской большой любви ушел из семьи к другому человеку, когда ей было восемь. И когда в ее 17 Чарли силится вновь оказаться фрагментом жизни дочери, Элли отвечает ненавистью. Однако эта жестокость не мешает Чарли восхищаться неподдельностью её честности — и Аронофски с ним солидарен. Нет ничего важнее честности. В статье «Утро акмеизма» Осипа Мандельштама говорилось: писать — значит, бороться с пустотой, строить. И Чарли заставляет Элли писать о её ненависти, потому что видит в её нигилизме не симптом гормональных сбоев, а смелость противостоять пустому, ненастоящему. Свет, а не тягу рушить.

Есть в «Ките» и другой герой-подросток, курсирующий в декорации апартаментов Чарли, за пределы которой мы не выходим до последней сцены, — Томас (Тай Симпкинс — мальчик из одного небезызвестного фильма ужасов), член религизозной организации эсхатологических оптимистов, с нетерпением ожидающих конца света. Активно предпринимая попытки приблизить очевидно близкого к смерти героя к Богу, в контрасте с Элли он лицемерит. На столкновения двух потрачено много времени, больше сцен, чем на обоюдные выяснения отношений обоих героев с Чарли. Их контраст выстроен неспроста: один из центральных тезисов фильма как раз и заключен в том, что мытарь ближе фарисея к Богу: мытарь отважней и у него бесконечно больший шанс становления на путь истинный.
В «Ките» по стилю не осталось и следа от размашистости «Пи» и «Реквиема по мечте», «Черного лебедя» и «Фонтана». Пять персонажей, плюс доставщик пиццы. Нехитрая музыкальная тема умеренной патетичности. Повествование дробится днями недели. И вообще, метод рассказа кажется вполне традиционным для американской драмы прошлого века, немного даже бродвейской (к тому же, фильм основан на театральной пьесе) — и это правда, но и неправда одновременно.
Метод Аронофски тут редуцировался, но тем самым приобрел в концентрации. И как в случае со стимуляцией организма инородными ему средствами, это сделало силу его воздействия более интенсивной. «Кит» вообще производит эффект религиозного откровения и слово катарсис, обычно употребляющееся без всякой надобности и мимо, в отношении описания опыта его просмотра вполне уместно. По аналогии с поэмой «Песнь о самом себе» Уолта Уитмена, упоминаемой персонажами, фильм переходит от частного и личного к общему и универсальному — и в конце концов от универсального к трансцендентному.

Вообще, это кино глубоко христианское. О прощении и раскаянии, отказе от личных границ ради любви и долга и необходимости уметь быть (а не казаться) жертвенным. Кино о том что спасти человека — можно. О чести, проявляемой в строках Уитмена: I believe in you my soul, the other I am must not abase itself to you,/ And you must not be abased to the other. О том, что человек — не биологическая субстанция, а триединство духа, души и тела, о чем так упорно говорили те же Флоренский и Кьеркегор.
И когда герой — по христианским лекалам, мытарь — отпустив страх за свое тело, ставшее синонимом его внутреннего пореза большой любовью, совершает подвиг, снова открыв себя для любви, он попадает в Рай. Буквально — попадает Рай. И эта — последняя — сцена оправдывает камерность всего фильма, обращая в мощнейший кинематографический прием его кажущуюся театральную незатейливость.
Так и мы, открыв себя для любви, полетим во сне.