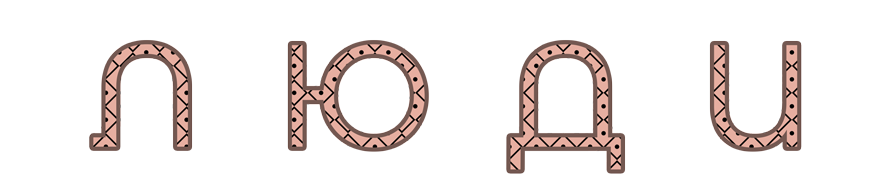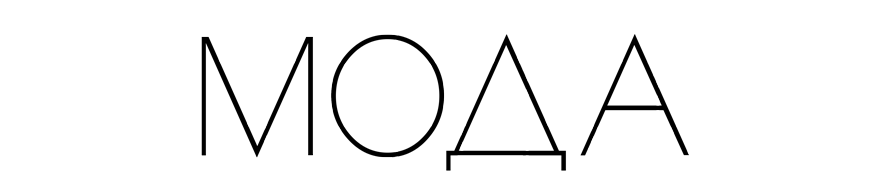«Интеллигенты и интеллектуалы ценят моменты, но не сигналы», – Олег Котельников.
Кажется, будто сейчас абсолютно все смотрят фильм 2021 года «Капитан Волконогов бежал» режиссёров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, так и не вышедший в широкий прокат, но собравший солидный пакет кинонаград. Одни зрители считают, что это может быть продукты одной вселенной с майором Громом (майор/капитан), вторые сетуют, что им не хватило балабановщины. Кинокритик Гордей Петрик посмотрел фильм и в своём фирменном стиле препарирует тело картины.
Чтобы без зазрения совести перейти к иронической интонации, первым делом оговорюсь: «Капитан Волконогов бежал» скорее хороший фильм. А по меркам нынешнего российского арт–мейнстрима, либо омертвленного на уровне сценария или монтажа продюсерами, либо кричаще нефешенебельно–негламурного из-за того, в каких масштабах бюджет распилен, «Капитан Волконогов бежал» моментами и вовсе выдающаяся работа. Это в самом деле эффектный фильм.
Во всяком случае, до 35–ой минуты, пока Наташа Меркулова и Алексей Чупов как раз таки фешенебельно портретируют цветастого допельгангера Ленинграда конца 1930–ых, не начав ещё разыгрывать мелодраму с гражданской дидактикой либеральной интеллигенции старшего поколения. Далее следует сделать ещё одну важную оговорку, опять же обращенную к воспевшей фильм так называемой «демшизе».
«Капитан Волкогонов бежал», посвященный по задумке проблеме морального выбора человека, являющегося звеном системы надзора и наказания (а по драматургии – элементарно сложностям выживания чекиста в годины ежовщины) на примере опыта коммунистического эксперимента, – это не фильм о России времен Большого террора в дословном смысле, как его подчас преподносят, а кино о её, России, именно обаятельном Тёмном Брате, где согласно сюжету имела место аналогичная, описанной, скажем, у Александра Исаевича Солженицына, историческая трагедия.
Этот самый Тёмный Брат, гениально сконструированный в духе конструктивизма, раскрашенный в стиле супрематизма и обшитый в кислотно–красный великой Надеждой Васильевой — опять же крайне эффектен, но бесконечно более невсамделишен, чем даже та сталинская Россия, которой грезил в НБП Эдуард Лимонов или придумали себе Сергей Курехин и Алексей Беляев–Гинтовт.

Та же история с выбором актёров на роль чекистов: это не советские типажи, а кукольный парад людей в театральной форме. Чтобы убедиться в этих словах, посмотрите хотя бы на фотографии центровых звеньев Структуры центрального аппарата НКВД, того же Генриха Григорьевича Ягоду: в одних чертах лица палача проглядывают признаки морального и физического вырождения и бесконечное обаяния Мефистофеля одновременно (здесь — не так).
Почему я подчеркиваю, что место действия «Капитана Волконогова» именно аналогичный мир, а не мир наш, всамделишный в авторских понимании и прочтении? Потому что в сравнении с тем же проектом «Дау», опять же работавшим не с советской действительностью, а с её монструозным клоном, или в сравнении с последними экзерсисами великого режиссера–гиперреалиста Алексея Германа старшего — любование вычурной декорацией в «Капитане Волконогове» превалирует собственно над высказыванием, а не становится ему, высказыванию, подпоркой.
А жанровые рокировки и характерное для режиссеров прямое цитирования знаковой киноклассики семимильными шагами уводят кино от ощущения достоверности — необходимого, если мы говорим об истории, где герой совершает моральную эволюцию, проходя, в силу окружающих его обстоятельств и прямой угрозы жизни, через моральное беспокойство. И тем более необходимого в ключе этики (как новой, так и естественно вековечной), когда разговор заходит о коллективной травме народа.

Очевидно, необходимо пересказать сюжет. Бездушный не столько из-за озлобленности, сколько в силу глубокой поверхностности взгляда на мироздание, капитан НКВД Федор Никодимович Волконогов (прекрасный – правда! - актер Юра Борисов, работающий в фильме, увы, исключительно в двух-трех интонациях) занят преимущественно применением «особых методов» к потенциальным врагам народа. Одной из таких метод является, например, последовательное выполнение следующего набора действий: положить арестованного врага народа на пол, сверху поместить дверь и прыгать на двери на пару со старшим товарищем майором Гвоздевым (Александр Яценко, — к разговору о типажах, в фильме самый убедительный из чекистов), как на детских качелях, пока арестованный не сознается в шпионаже, чтобы затем его незамедлительно расстрелять.
В свободное от выполнения прямых обязанностей время капитан Волконогов с товарищем капитаном Веретенниковым (вопиюще не органичная кинороль большого театрального артиста Никиты Кукушкина) лаются, притворившись дикими псами, играют в волейбол, с жадностью упиваются смородиновым компотом и, как настоящие советские лирики, исполняют в кружке самодеятельности композицию «Полюшко-поле», о том, как их девушки будут ждать, когда они на войну пойдут. На дворе — как сообщает застилающий экран дирижабль, отсылающий к «Утомленным солнцем», — стоит 1938 год, разгар ежовщины, не терпящей непотизма.

И вот в один прекрасный день за спиной Волконогова майор Гвоздев, вместе с которым бравый протагонист ещё день-два назад прыгал на очередном то ли немецком, то ли польском шпионе, замертво падает на мраморные ступени. А вскоре после этого инцидента догадливый капитан решает - как собственно и сообщает название фильма - бежать. Это описание кинематографической среды, диегетического пространства, мира, пускай и декоративного в отношении реальности. Крайне умело отработанный первый акт.
Далее по сюжету — после обрамляющего акт побега — НКВД снаряжает за Волконоговым целую свиту чекистов во главе с умирающим от чахотки майором Головней (Тимофей Трибунцев, тоже на редкость однохарактерный в этом фильме), а капитан Волконогов носится по родственникам им замученных и сухо просит у них прощения, чтобы, если кто-то его простит, — буквально, а не метафорически попасть в Рай, в который он вдруг уверовал, вспоминая по ходу дела процессы пыток (как в «Чекисте» Александра Рогожкина, но с интеллигентным смущением режисеров), и меняя против воли социальные статусы, поначалу превратившись в бомжа, а затем вовсе в «копаря», который роет вчерашним своим могилу (трансформация как у Алексея Германа в «Хрусталев, машину!», но в отсутствие видимых изменений в психике персонажа).

То есть чекист бежит из Советской России в Рай, от встречи к встрече с замученными, осознавая, чем занимается. А за ним оголтело бегают действующие сотрудники органов — как полицейские за маньяком в американских боевиках или, скажем, Шерлок за Мориарти (инверсия, очевидно, задуманная и интересная, но акцентно эксплуатируется так часто, что шутка теряет тонкость).
По сути протагонист совершает характерную эволюцию только в самых последних сценах, почти в финале. Сначала он сталкивается с малолеткой, перед которой отвечает за безотцовство, и та первой называет «особые методы», о которых Волконогов без конца твердит родственникам убиенных, пытками ему в лицо напрямую, а герой пускает скупые слезы. И затем, когда отчаянный так и умереть непрощенным, герой спасает от гибели старуху, после ареста дочки ушедшую на чердак и объявившую голодовку, то есть по сути переводит бабушку через дорогу.
Эффектно? Безусловно. Натурально и честно? Нет. Вообще, центральные вопросы к «Волконогову» расположены в зоне этики. Ведь если ты взял на себя ответственность разговора о репрессиях, войне, смерти — о чем угодно реальном, трагически отпечатавшемся в памяти нескольких поколений, — нужно быть в первую очередь очень честным.

Наташа Меркулова и Алексей Чупов затевают вместо этого синефильскую жанровую игру, безусловно, имеющую право на жизнь, но, с одной стороны, какую-то неуверенную, с другой — затеняющую и без того достаточно одномерное высказывание, заключенное в общем ровно в двух евангельских аксиомах: а) убивать людей плохо; б) любой палач меж тем способен искупить пред Богом свою вину. А параллели, которые авторы невзначай в диалогах прокладывают между 2020–ми и 1930–ми, выглядят убедительно лишь для тех, кто видит в любом проявлении власти со стороны собственного государства отсылку к 1937–му.
Ключевое слово в описании «Волконогова» — декоративность. Потому даже его изобретательные находки — будь то работа с матом или фасонами галифе — всё это про работу над малой формой, а не над несущей конструкцией, образующей аутентичное киновысказывание. «Волконогов» оказывается попросту «нематерым» по отношению к тем же «Хрусталев, машину!» или «Чекисту», к которым без устали апеллирует. Так же как песня о войне в исполнении Shortparis — предельно инстаграмный финал картины — что ни сделай, ну никак не сможет произвести долженствующего эффекта подлинности, если на 9—ое мая прослушивать её в одном ряду с песнями о войне Владимира Высоцкого или Егора Летова. И не смейте говорить, что времена и парадигмы сменились. Как видите сами, разув глаза, — отнюдь нет.